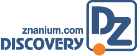The paper reveals the main problems and prerequisites to formation of the GULAG (Chief Administration of Corrective Labour Camps) in the 1920s. The specificity of this period of history is described in detail. The author utilizes an extensive material of letters, diaries and other private sources. The analysis of statistical data allows to trace the main formation trends of the totalitarian system of Stalinism. On the example of SLON (Solovetsky Special Purpose Camp), the author shows characteristic features of the GULAG system.
GULAG, SLON, Russia, the 1920s, population mentality
К середине 1920-х гг. позиции Советской власти выглядели достаточно стабильными: одержана победа над политическими противниками («белым движением», иностранными интервентами, оппозиционными партиями), подавлены антибольшевистский мятеж в Кронштадте, антикоммунистические крестьянские восстания в Тамбовской губернии, Поволжье и Сибири. Был преодолен (хотя и с огромными жертвами) массовый голод в ряде регионов страны, провозглашена новая экономическая политика, несколько улучшилось (после Генуэзской конференции 1922 г.) международное положение.
А поскольку извне на власть большевиков открыто никто уже не посягал, объектом новых карательных акций стали свои же однопартийцы, вчерашние соратники по революционной борьбе и внесудебным расправам, а затем – и самые широкие массы населения. Главными аргументами и инструментами при этом служили аресты, тюрьмы, ссылки и концлагеря.
В результате воздействия популистской пропаганды многие люди воспринимали репрессии как совершенно справедливую «революционную расправу», которая совершалась во имя некоего «светлого будущего».
Однако, как и во все времена, находились среди россиян люди, которые хотели достойно и по справедливости жить сегодня, не откладывая это на неопределенное будущее. «Нам масло надо, а не социализм», – единодушно заявили 6 сентября 1927 г. рабочие Путиловского завода в Ленинграде, собравшиеся на свою кооперативную конференцию. Как сообщалось Ленинградским отделом ОГПУ, «рабочие выявили такое озлобление по поводу плохого снабжения, что конференция по резкости выступлений, по самовольности и количеству хулиганских выпадов вполне могла быть отнесена к явлениям исключительного порядка»[1].
Какой же виделась советская действительность 1920-х гг. современникам? Наглядное представление об этом можно получить из перлюстрированных (просмотренных цензурой ОГПУ) писем. 40 тыс. копий таких писем за 1924–1925 гг. хранятся, например, в бывшем Ленинградском партийном архиве (ныне – Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга – ЦГАИСПД СПб) [2].
Городские жители рассуждали о Советской власти и Коммунистической партии, о состоянии народного образования и культуры, их беспокоил рост преступности и безработица. Жителей села больше всего волновали пьянство, поведение местных властей, постановка народного образования, уровень жизни и работа кооперации. Красноармейцы в первую очередь писали о службе, положении с питанием и обмундированием, о дисциплине. Повседневная действительность не слишком радовала рядового советского человека середины 1920-х гг.
В мае 1924 г. некто Н.К. Тихонов (очевидно, крестьянин) из Смоленской губернии писал родственникам в Ленинград: «Налогу с меня в нынешнем году (начислили) 66 рублей золотом, за межевание 20 рублей … Что-либо продайте, но мне эти деньги нужны во что бы то ни стало. Не жри, не спи, а отдай и не разговаривай, а иначе опись имущества и продажа с аукциона. Да еще год или полтора тюрьмы дадут за налог (за неуплату налога. – В.Б.)». Ему вторило письмо из Ярославской губернии: «Дорогой сын, мы все разуты и раздеты. Что собрано с поля, вряд ли хватит покрыть долги. От Пасхи мяса не видели и вкуса не знаем, а работаем, как черти <…>. Вроде золотой рыбки приходится жить в разбитом корыте».
Особенно тяжко было в полосе неурожая, охватившего около 20 губерний России. Из Тамбовской губернии в мае 1925 г. сообщали родственнику, служившему в армии: «Кругом, на сто верст, сильный голод. Ходят милостыню просить, но подать некому. У многих ничего не сеяно и озимых нет. Продают свои последние вещи и инвентарь и скот, которое все не ценится и покупать некому. Хлеб стоит 4 рубля пуд, а лошадь 30 рублей, а корова 15 рублей. Государство понемногу дает семена слабым, но этого слишком мало <…>. Большая ненависть и зло к тому, у кого хлеб есть».
Еще более тяжелой представлялась жизнь деревни постороннему наблюдателю. В октябре 1925 г. неизвестная женщина писала в Эстонию: «Так близко я никогда с крестьянами не жила <…>. Спят на полу вповалку, удивлены, зачем у нас кровати. Вытираются такой грязной тряпкой, что пол такой не моют. Едят щи пустые и картошку. Масло, яйца, телят и свиней продают <…>. Русские мученики. Покрываются шубами-половиками <…>. Салфетки постилают два раза в году. В лекарства не верят, знахари приезжают <…>. Кажется мне, что я живу не в 20-м веке, а в 8-м, до Крещения Руси».
Многих горожан пугала безработица и огорчала низкая зарплата. В июле 1924 г. неизвестная ленинградка писала в Южную Америку: «Эта жизнь в борьбе за черный кусок хлеба и кашу с постным маслом очертела».
О том, что многие семьи жили за чертой бедности, говорит письмо школьного работника из Ленинграда (июнь 1925 г.): «Тот, кто получает 40–50 рублей и имеет 2–3 детей, обречен на голодовку. У меня в одной школе, где дети главным образом рабочих, до 20 процентов цинготных, а все из-за питания. На картофеле и черном хлебе далеко не уйдешь. В этой же школе 88 процентов малокровных и 9 процентов туберкулезных».
Недовольны своей жизнью были не только крестьяне, рабочие и служащие, но и нэпманы. Владелица магазина в мае 1924 г. сообщала в Париж: «Вот уже несколько месяцев, как мы <…> начали снова влезать в долги <…>. Налоги и сборы превышают заработок <…>. Сегодня извещение, чтобы уплатить 50 червонцев уравнительного налога в 2 раза. Это <…> в 8 раз больше, чем в прошлое полугодие. <…> От общего бедствия нам не легче, а еще тяжелее, кругом кошмарно».
В декабре 1924 г. курянин А.В. Домостай делился со студентом ленинградского Лесного института: «Я не могу себе простить, что родился так поздно или так рано. Если бы лет на 10 раньше, то в революции и мне перепал бы кусок. А если бы лет на 10 позднее, то такой же кусок я сумел бы перехватить в будущую революцию. <…> Видишь захлебывающегося от ораторского восторга коммуниста, знай, что он, сукин сын, только потому в восторге, что получает 200–250 рублей, а дай ему 12–15 рублей, живо в стане монархистов будет и так везде, мерзавец на мерзавце, подлец на подлеце. Я в этом уже убедился. <…> Взял бы я стадо этой поганой сволочи, стадо обывателей, мещан и истер бы в порошок…».
Главным бичом представлялись взятки и повальное пьянство руководства. Вот так, например, праздновали Пасху в одном из сел Подольской губернии на Украине: «Весь самогон позабрал сельсовет и пил до того, что днем и ночью было темно в их глазах. <…> Словом, по всему селу забрали до 3 с половиной ведер самогону и весь пропил Сельсовет». Из Тамбовской губернии сторонник Советской власти сообщал: «Насчет отца, так он сам первый <…> за коммунистами пойдет. Но вот если коммунисты все такие, как перед нашими глазами, то за такими трудно идти. Потому что нашим коммунистам покажи стакан самогонки, так он за тобой будет бежать хоть верст десять» [3].
Массовым явлением стали хищения с заводов и фабрик. Именно в те времена появился и укоренился на долгие годы термин «несуны». К воровству людей толкала сама жизнь. В годы «военного коммунизма», чтобы выжить, нужно было что-то продать или обменять на «черном рынке». Сначала это был домашний скарб, одежда, а потом рабочие начали уносить все, что могли, со своих предприятий. Мало что изменилось и с переходом к новой экономической политике (далее – НЭПу).
В начале «нового курса» в г. Гусь-Хрустальном рабочие на общем собрании решили не воровать, пока их делегаты ездят в Москву. За эти две недели выпуск мануфактуры увеличился на 200 %. Получается, что за ворота фабрики выносились две трети продукции [4].
В печати на протяжении 1920-х гг. сообщения о мелких кражах на предприятиях мелькают довольно часто. Вот лишь несколько примеров: «При выходе с Монетного двора (в 1924 г. в Ленинграде – В.Б.) был задержан рабочий П. Каравайчик, у которого в вещевом мешке оказалось 233 золотых кружочка, предназначенных для чеканки золотой монеты. Выяснилось, что кроме этого случая Каравайчику удалось вынести с Монетного двора еще 54 кружочка, которые он продал» [5].
В 1920-е гг. обыски стали повсеместным явлением. Причем недовольство людей вызывала прежде всего несправедливость при их проведении. Некоторые категории работников были избавлены от этой унизительной процедуры: например, коммунисты, которых, как наиболее проверенных, надежных производственников, привлекали к производству обысков, или члены правления фабкома.
В одном из своих выступлений в 1923 г. Ф.Э. Дзержинский (по совместительству еще и нарком путей сообщения) упомянул, что только на Казанской железной дороге за месяц были украдены более 24 тыс. пудов грузов. Ф.Э. Дзержинский разработал целую программу борьбы с воровством, суть которой сводилась не к механическому увеличению числа охраняющих грузы, а к устранению условий, способствующих кражам: оградить станционные пути, ужесточить меры наказания (вплоть до расстрела), выдавать премии за раскрытие похитителей, увеличить скорость товарных вагонов и т.п.
Единственное, о чем не говорилось и в этой программе, и во многих ей подобных, так это о глубинных причинах, толкавших людей на преступления. Только в «Тезисах о значении и задачах железнодорожного транспорта в стране» (июнь 1923 г.) Ф.Э. Дзержинский вынужденно упомянул о необходимости поднять заработную плату железнодорожникам как самом важном условии решения проблемы [6].
Далекая от гуманности советская действительность и специфические условия армейской казармы 1920-х гг. способствовали формированию типа брутального красноармейца. Инициатива повседневной грубости и хулиганства чаще всего исходила от младших командиров, которые, в свою очередь, копировали старших начальников.
Новая армия Советской России 1920-х гг. во многом являла собой микромодель вульгарного коммунизма. Она штамповала готовые для такой системы кадры, привыкшие к беспрекословному подчинению, изощренной грубости, неприятию инакомыслия. Придя туда со своими крестьянскими представлениями и ограниченным мировоззрением, юноша покидал ее во многом другим человеком. Армия приподнимала его над массой и одновременно отрывала от нее.
Она учила его двойным стандартам: конформизму и лицемерию, терпению и угодничеству, доносительству и демагогии, власти силы и силе власти. Она формировала из него личность, но при этом лишала его чего-то более существенного – человеческого [7].
Серьезную озабоченность большевистского руководства вызывал мониторинг настроений среди молодого и подрастающего поколений. Из опрошенных в середине 1920-х гг. социологами советских школьников только 2,2 % пожелали быть коммунистами; 1,1 – политическими деятелями; 0,3 – комиссарами, тогда как учителем захотели стать 10,4 % респондентов, конторщиками – 8,9; инженерами – 5,6 %. Нашлись также потенциальные лавочники, княгини, дворянки, цари, богачи, попы [8].
Наблюдался бурный всплеск хулиганства. Причем в середине 1920-х гг. из всех задержанных хулиганов более 13 % составляли коммунисты и комсомольцы. Сублимация социального недовольства выражалась в создании многочисленных хулиганских и других неформальных ювенальных (молодежных, юношеских и даже детских) организаций: «Кружок хулиганов»; «ОДН» – Общество «Долой невинность»; «ОСА» – «Общество советских алкоголиков»; «Интернационал дураков»; «Союз хулиганов»; «Центральный комитет шпаны».
Возникали различные кружки типа «Вольница», «Лига самоубийств», где молодежь, в основном учащаяся, была готова расстаться с жизнью. Один из ведущих большевистских идеологов К. Радек вполне справедливо назвал самоубийства «термометром», показывающим лихорадочное состояние общественного организма [9].
Нараставшему недовольству широких масс населения уровнем жизни и социально-политической обстановкой в стране большевистское руководство, в котором все более прочные позиции занимал И.В. Сталин, не сумело (да и не намеревалось) противопоставить ничего, кроме нагнетания атмосферы «осажденной крепости», манипулирования жупелом «враждебного окружения», насаждения военно-карательной дисциплины и последовательного ужесточения в связи с этим всех видов репрессий.
Так начался новый этап Гражданской войны – затяжной, необъявленной, тотальной агрессии большевистской партии и Советского государства против мирного населения своей же страны.
Сразу же после создания карательных органов Советской власти (ВЧК) в стране начинает складываться параллельная система мест заключения, предназначенная для содержания политических противников большевистского режима. До 1921 г. этой системой руководила Коллегия ВЧК, а затем – Спецотдел ВЧК-ГПУ-ОГПУ. На местах при территориальных органах ВЧК-ГПУ-ОГПУ создавались специальные комендатуры [10].
Первые лагеря на территории Советской республики появились летом 1918 г. Назывались они по-разному: концентрационные, принудительных работ, особого назначения, исправительно-трудовые и т.д. Но разные названия в реальности не меняли их сути и назначения. До апреля 1919 г. концлагеря на местах подчинялись непосредственно губернским Чрезвычайным комиссиям. Кроме того, часть заключенных направлялась в концлагеря системы Центральной коллегии по делам пленных и беженцев (далее – Центропленбеж), созданной при Наркомате по военным делам РСФСР 27 апреля 1918 г. [11].
Центропленбеж располагала широкой сетью концентрационных лагерей, в которых содержались 2,2 млн военнопленных Первой мировой войны. После заключения Брестского мира (март 1918 г.) и начавшегося обмена военнопленными концлагеря Центропленбежа стали заполняться военнопленными Гражданской войны. Постановлением ВЦИК от 15 апреля 1919 г. организация лагерей принудительных работ (такое общее название было выбрано для различных типов концлагерей) поручалась губернским ЧК, а общее управление ими возлагалось на НКВД РСФСР [12].
Это решение было развито и конкретизировано Постановлением ВЦИК «О лагерях принудительных работ» от 17 мая 1919 г. [13]. Через неделю, 24 мая, Центропленбеж была также переведена в состав НКВД. В последнем для руководства лагерями создается Отдел принудительных работ (далее – ОПР), который в дальнейшем повысил свой статус до Главного управления, несколько раз меняя названия. Постановлением ВЦИК (от 24 мая 1919 г.) ВЧК поручалось организовать лагеря принудительных работ в каждой губернии, а при необходимости – и в уездах, чтобы затем передать их ОПР.
Некоторая неопределенность ведомственной подчиненности лагерей принудительных работ (часть из них, в нарушение постановления ВЦИК от 17 мая 1919 г., оставалась до 1922 г. в ведении ВЧК) не имела большого значения, поскольку председатель ВЧК Ф.Э. Дзержинский с марта 1919 г. одновременно (до июля 1923 г.) возглавлял и НКВД РСФСР.
И неслучайно первыми руководителями ОПР-ГУПР НКВД были видные чекисты: М.С. Кедров (с апреля по июнь 1919 г.) и Ф.Д. Медведь (с сентября 1919 г. по февраль 1920 г.). На протяжении первого советского десятилетия шла постоянная межведомственная борьба НКВД и Наркомюста за руководство местами заключения.
При этом каждое из ведомств подчеркивало свои «сильные стороны» и выдвигало «весомые аргументы» в свою пользу. НКВД утверждал, что «располагает хорошо налаженной связью с местами заключения», а также пытался убедить, что «ГУПР сможет добиться самоокупаемости мест заключения быстрее, чем НКЮ». В свою очередь Наркомюст полагал, что НКВД «игнорирует проблему перевоспитания заключенных, тогда как ЦИТО с этим вполне может справиться» [14]. После того, как 9 февраля 1922 г., в связи с ликвидацией ВЧК, было принято решение ВЦИК о передаче всех мест заключения в Наркомюст, НКВД выступил с решительным протестом по этому поводу, и уже 25 июля 1922 г. Совнарком РСФСР постановил передать все карательно-исполнительные учреждения в Наркомат внутренних дел.
Коллизия вроде бы разрешилась 12 октября того же года, когда совместным постановлением Наркомюста и НКВД было организовано Главное управление мест заключения (далее – ГУМЗ) в составе Наркомвнудела. Возглавил этот вновь образованный Главк бывший руководитель ЦИТО Наркомюста Е.Г. Ширвиндт, который оставался на этой должности до 15 декабря 1930 г., т.е. вплоть до ликвидации ГУМЗа.
Тем не менее это не предотвратило дальнейших попыток Наркомюста вновь подчинить себе систему исполнения наказаний. И в начале 1930-х гг. это ведомство, казалось бы, добилось реванша: после ликвидации с 15 декабря 1930 г. республиканских НКВД подведомственные им места заключения перешли в подчинение республиканских наркоматов юстиции.
Этот вопрос был предрешен постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 ноября 1930 г. № П14/7 «Об упразднении республиканских НКВД». В документе, в частности, говорилось: «... Руководство уголовным розыском и милицией передать ОГПУ, а заведывание местами заключения органам Наркомюста» [15].
Для руководства обозначенными «местами» в союзных республиках были созданы Главные управления исправительно-трудовых учреждений (далее – ГУИТУ). Некоторые отступления от общей системы управления местами лишения свободы были санкционированы лишь для Закавказья.
Однако в 1934 г. вся система мест заключения вновь вернулась в структуру органов внутренних дел и пребывала там (с некоторыми незначительными перерывами) вплоть до 1998 г.
По состоянию на 1922 г. в системе ГУМЗ НКВД РСФСР функционировало: домов заключения и тюрем – 105; сельскохозяйственных колоний – 35; исправительных домов и домов лишения свободы – 207; трудовых домов для несовершеннолетних – 3; больниц – 5. Из них 23 учреждения имели общегосударственное назначение.
Общее число заключенных достигало 68 297 чел. [16]. Этапным явлением в истории советской карательной системы стало оформление уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.
12–26 мая 1922 г. 3-я сессия ВЦИКа РСФСР Х созыва рассмотрела проект первого Уголовного кодекса РСФСР. Принципиальной «новацией» этого документа явилось (впервые в мировой юридической практике) введение в Особенную часть (по составу «Государственные преступления») отдельной главы («О контрреволюционных преступлениях», статьи 57–73), которая устанавливала уголовную ответственность, обусловленную не правовыми, а политико-идеологическими мотивами.
Вновь принятый Уголовный кодекс РСФСР предусматривал применение смертной казни в 38 случаях. В частности, расстрел мог быть назначен: за «контрреволюционные преступления» – в 13 случаях, за преступление против порядка управления – в шести, за должностные преступления – в пяти случаях.
26 ноября 1926 г. вторая сессия ВЦИКа РСФСР XII созыва приняла новый Уголовный кодекс РСФСР, который был введен в действие Постановлением ВЦИКа РСФСР с 1 января 1927 г. Новый УК РСФСР предусматривал применение смертной казни за 37 видов преступлений, в том числе: за «контрреволюционные» – по 13 статьям, против порядка управления – по шести, за должностные преступления – по пяти, за хозяйственные и имущественные преступления – по одной, за воинские преступления – по 11 статьям.
Минимальный срок лишения свободы был установлен в пределах одного дня.
«Контрреволюционные преступления» квалифицировались по статье 58 (пункты 1–14), включенной в главу 1 «Преступления государственные» Особенной части УК (глава 1 была введена в действие с принятием 25 февраля 1927 г. 3-й сессией ЦИК СССР «Положения о преступлениях государственных»).
Перечень «контрреволюционных» статей (в самом сжатом виде) может быть представлен следующим образом: статья 58-1 – «понятие контрреволюционного преступления»; 58-1а – «измена родине»; 58-1б – «измена родине, совершенная военнослужащим»; 58-1в – «ответственность членов семьи в случае побега или вербовки за границу военнослужащего»; 58-1г – «недонесение военнослужащими об измене родине»; 58-2 – «вооруженное восстание»; 58-3 – «сношение в контрреволюционных целях с иностранным государством»; 58-4 – «помощь международной буржуазии в осуществлении враждебной деятельности против СССР»; 58-5 – «склонение иностранного государства к неприязненным действиям против СССР»; 58-6/1 –
«шпионаж»; 58-7 – «экономическая контрреволюция (вредительство)»; 58-8 – «террористические акты»; 58-9 – «диверсионные акты»; 58-10/1 – «контрреволюционная пропаганда и агитация»; 58-11 – «контрреволюционная организационная деятельность»; 58-12 – «недонесение о контрреволюционном преступлении»; 58-13 – «активная контрреволюционная деятельность при царском строе или у контрреволюционных правительств в период гражданской войны»; 58-14 – «контрреволюционный саботаж» [16].
При этом «контрреволюционным» признавалось «всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов и избранных ими, на основании Конституции Союза ССР и конституций союзных республик, рабоче-крестьянских правительств Союза ССР, союзных и автономных республик или к подрыву или ослаблению внешней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской революции», а «в силу международной солидарности интересов всех трудящихся» такие же действия считались «контрреволюционными» и тогда, «когда они направлены на всякое другое государство трудящихся, хотя бы и не входящее в Союз ССР» [17].
Как видим, вновь принятым советским уголовным законодательством предоставлялось карательным органам практически неограниченное пространство для толкований понятия «контрреволюционности».
Уголовный кодекс РСФСР с 1926 г. действовал в Казахской, Киргизской, а с 1940 г. – в Латвийской, Литовской и Эстонской ССР. В остальных союзных республиках были приняты собственные уголовные кодексы, в которых дублировалась трактовка «контрреволюционных преступлений», принятая Уголовным кодексом РСФСР, варьировалась только нумерация статей.
Отметим также, что в исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1924 г. (как и в Уголовном кодексе 1926 г.) не было терминов «тюрьма» и «лагерь» (в том числе «концентрационный лагерь», либо «лагерь принудительных работ», либо «исправительно-трудовой лагерь» и т.п.).
Но в реальности таковые существовали, функционировали и руководствовались в своей деятельности не законодательными установлениями, а различными подзаконными ведомственными актами, издаваемыми самими же карательно-применительными органами – ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД и др.
По официальным данным, в начале 1920-х гг. имелись пять типов лагерей принудительных работ: лагеря особого назначения; концентрационные лагеря общего типа; производственные лагеря; лагеря для военнопленных; лагеря-распределители.
В документах НКВД термины «лагерь принудительных работ» и «концентрационный лагерь» часто использовались как синонимы. Первые учреждения такого типа были открыты в 1918 г. в Москве: Андроньевский, Ивановский, Владыкинский, Новоспасский и др. [18].
К концу 1920 г. в РСФСР насчитывалось 84 лагеря, расположенных в 43 губерниях. Общая численность заключенных составляла около 50 тыс. чел., половина из них – военнопленные Гражданской войны. Через год количество открытых по всей России лагерей увеличилось до 132. Из них 106 были распределены между 43 губернскими подотделами принудительных работ (далее – ГУПР), а остальные 26 лагерей приходились на Сибирь и автономные области.
Лагеря насчитывали в этот период от 40 до 60 тыс. заключенных. Во второй половине 1921 г. по составу преступлений заключенные ГУПРа делились: на уголовные –
28,5 %; совершившие противообщественные преступления (пьянство, проституция, праздношатание и пр.) – 18,3; контрреволюционеры – 16,9; совершившие должностные преступления – 8,7; военные дезертиры – 8,5; следственные за ЧК – 5,4 %; нарушители границы – 2,1; шпионы – 1,9; прочие – 9,7.
Таким образом, около 35 % узников лагерей того времени относились к числу репрессированных за «контрреволюцию» [19]. Режим содержания в лагерях принудительных работ в 1920-е гг. отличался от того, который установился десятилетием позже. Продолжительность рабочего дня составляла 8 ч. Труд заключенных оплачивался по расценкам профсоюзов и не должен был отличаться от оплаты труда вольнонаемных. Тем, кто зарекомендовал себя безупречным поведением, разрешалось проживание на частной квартире – являться в лагерь надлежало только в часы работы. Широко использовалось досрочное освобождение.
Попытаемся проследить реальную историю и жизнедеятельность отдельно взятого лагеря в начале 1920-х гг. Речь идет о концлагере (лагере принудительных работ), находившемся в губернском городе Вятке. Этот лагерь был организован в феврале 1919 г. под наблюдением местной ЧК и первоначально размещался в Вятском исправительном рабочем доме. 28 апреля 1919 г. его перевели в здание Вятской губернской тюрьмы.
По существовавшим установлениям, лагерь предназначался для лиц, «кои по несознательности или слабости (корысти) совершили то или иное преступление (саботаж, спекуляция, преступление по должности и др.), и для заведомых угнетателей и эксплуататоров трудового народа и контрреволюционного элемента».
Все эти люди должны были «в труде и труде рациональном искупить свою вину и подготовиться к новой жизни». Количество заключенных в лагере зависело от удаленности фронта Гражданской войны: в июне 1919 г. их было 312, а в январе 1920 г. – только 88. 26 ноября 1919 г. концлагерь передали во ведение отдела по управлению губернией при губисполкоме.
Концлагерь должен был содержаться трудом самих заключенных. Их назначали на работы как на территории лагеря, так и за ее пределами. Занимались не только физическим, но и «умственным» трудом: специалисты служили в различных советских учреждениях. А в 1920 г. вообще вся канцелярия подотдела общественных работ при отделе управления губернией состояла из содержащихся в лагере заключенных. Обязанности секретаря в этой канцелярии исполнял В.Г. Куракин, бывший член партии эсеров-интернационалистов, арестованный в 1918 г. за «контрреволюционную деятельность». Работали по 8 ч, сверхурочные и ночные работы могли вводиться лишь с соблюдением трудового законодательства.
Продовольственный паек для заключенных должен был соответствовать нормам питания для лиц, занятых физическим трудом. Оплата труда осуществлялась по ставкам профсоюза, соответствующего роду деятельности заключенного. Из заработка вычиталась стоимость содержания (продовольствие, одежда, расходы по помещению, содержание администрации, караула). Оставшиеся деньги (не менее четверти заработка) шли заключенному на его расчетную книжку. Заключенные избирали своего старосту, который являлся посредником между узниками и руководством лагеря.
Каждому заключенному предоставлялось право обжаловать неправильные действия администрации. Для этой цели заводилась книга жалоб, которая должна была храниться у старосты и предоставляться отделу управления и лицам, имеющим право ревизии лагеря. Свидания с заключенными устраивались в воскресные и праздничные дни: для ближайших родственников (супруги, родители, дети, братья, сестры) – без особого разрешения, для остальных – с санкции администрации.
Концлагерь существовал в нелегких условиях. Зарабатываемые средства не покрывали нужд администрации и заключенных, приходилось обращаться за помощью в «центр». Не хватало спальных принадлежностей и матрацев, одежды и обуви. В связи с демобилизацией Красной армии в 1920 г. возникают проблемы с охраной лагеря. Недоставало средств на содержание необходимого количества надзирателей. В 1921 г. обязанности их несли бывшие белогвардейские пленные, переведенные в Красную армию. На внешние работы заключенные отправлялись практически без охраны.
Но побегов, в общем, случалось немного – возможно, и потому, что за первый побег наказание увеличивалось до 10-кратного размера, а за вторым побегом следовал ревтрибунал, который мог применить уже и «высшую меру». Кроме того, в лагере действовала «круговая порука» – солидарная ответственность заключенных за соблюдение режимных требований.
Для облегчения материального положения лагеря в феврале 1921 г. были созданы мастерские. Благодаря этому он перестал значиться убыточным. Появляется даже возможность снятия его с государственного снабжения и перевода на «самоснабжение». В апреле 1922 г., в связи с окончанием Гражданской войны, Вятский лагерь принудительных работ (концлагерь) был закрыт [20].
Но лагерная система продолжала функционировать и проявляла устойчивую тенденцию расширения. 1 января 1922 г. эта система была снята с денежного государственного снабжения и переведена на принцип самоокупаемости.
Знаковым событием в истории советской карательно-репрессивной системы явилась организация в 1922-1923 гг. огромного лагеря на Соловецких островах в Белом море, расположенных недалеко от Архангельска. На главном из этих островов издревле находился крупнейший православный монастырь – со всеми его атрибутами, включая знаменитую монастырскую тюрьму. После изгнания из монастыря монахов, ГПУ, по поручению высшего советского руководства, устроило на Соловецких островах концлагерь, получивший название СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения.
Первые заключенные прибыли сюда из лагерей в Холмогорах и Пертоминске в начале июля 1923 г. К концу этого года в лагере находились 4 тыс. заключенных, в 1927 г. – 15 тыс., а к концу 1928 г. – 38 тыс. [20].
Одной из особенностей лагерной системы Соловков было так называемое «самоуправление»: кроме начальника и нескольких других ответственных постов, все административные «должности» в этом лагере занимали заключенные. В подавляющем большинстве это были бывшие сотрудники ГПУ, осужденные за серьезные проступки, связанные с превышением власти. Понятно, что осуществляемое такими лицами «самоуправление» оборачивалось настоящим произволом, и прежде всего – по отношению к политическим заключенным, или так называемым «контрреволюционерам».
Последние, обязанные проживать совместно с уголовниками, устанавливающими свои порядки в лагере, подвергались чудовищным издевательствам, голодали, мерзли зимой, а летом их буквально пожирали мошка и комары.
Позднее лагерь на Соловках был реорганизован в УСЛОН (Управление Соловецкими лагерями особого назначения), широко шагнул на континент, а в 1926–1927 гг. появились лагеря в устье р. Печоры, Коми крае и в других местах Европейского Севера страны.
Есть все основания полагать, что именно с организации Соловецкого лагеря началась замена «импровизированных» лагерей периода Гражданской войны продуманной системой подневольно-принудительных работ, формирование и приведение в действие огромного и чудовищного «истребительно-трудового» механизма этой системы (Гулага).
1. GULAG: ego stroiteli, obitateli i geroi [GULAG: its builders, inhabitants and heroes] / Ed. I.V. Dobrovolsky. - Frankfurt-am-Main - Moscow, 1999.
2. CGAHIPD SPb [Central State Archive of Historical-Political Documents of Sankt-Petersburg]. Fonds 16. Inventory 5. File 5911-5916; Inventory 6. File 6934-6947.
3. Izmozik, V. NEP cherez zamochnuyu skvazhinu. Sovietskaya vlast’ glazami sovetskogo obyvatelya [NEP (New Economic Policy) through the keyhole. The Soviet regime as seen by the eyes of a Soviet philistine] / V. Izmozik // Rodina [Homeland]. - 2001. - № 8. - P. 81-87.
4. Pavlyuchenkov, S.A. Voennyj kommunizm v Rossii: vlast’ i massy [Military communism in Russia: power and the masses] / S.A. Pavlyuchenkov. - Moscow, 1997. - P. 154.
5. Krasnaya gazeta [Red Newspaper]. 23 September, 1924.
6. Dzerzhinsky, F.E. Izbrannye proizvedeniya [Selected works]. Vol. 1 / F.E. Dzerzhinsky. Moscow, 1977. - P. 237, 299-300, 348, 405, 437.
7. Rozhkov, A. Pod diktovku politrukov. Mir i mirok krasnoarmejca 1920-h godov [Under the dictation of political instructors. The world and little world of the Red Army soldier of the 1920s] / A. Rozhkov // Rodina [Homeland]. - 2001. - № 4. - P. 60-65.
8. Rybnikov, N.A. Interesy sovremennogo shkol'nika [Interests of a modern schoolboy] / N.A. Rybnikov. - Moscow-Leningrad, 1926 - P. 12, 24.
9. Rozhkov, A. Internacional durakov [International of fools] / A. Rozhkov // Rodina [Homeland]. - 1999. - № 12. - P. 61-66.
10. Tryakhov, V.N. GULAG i vojna. Zhestokaya pravda dokumentov [GULAG and the war. Cruel truth of documents] / V.N. Tryakhov. - Perm: Pushka, 2005. - P. 19.
11. Sistema ispravitelno-trudovyh lagerej v SSSR. 1923-1960: Spravochnik [System of forced labor camps in the USSR. 1923-1960: Handbook] / Comp. M.B. Smirnov. - Moscow: Zvenya, 1998. - P. 11.
12. GULAG: Glavnoe upravlenie lagerej. 1918-1960 [GULAG: General directorate of camps. 1918-1960] / Comp. A.I. Kokurin, N.V. Petrov; scientific ed. V.N. Shostakovsky. - Moscow: Materik: “Demography” Intern. Foundation, 2002. - P. 15-16.
13. Sistema ispravitelno-trudovyh lagerej v SSSR. 1923-1960: Spravochnik [System of forced labor camps in the USSR. 1923-1960: Handbook] / Comp. M.B. Smirnov. - Moscow: Zvenya,1998. - P. 13.
14. Arhiv prezidenta RF [Archive of the President of the FR]. Fonds 3. Inventory 58. File 165. Sheet 132.
15. Organy i vojska MVD Rossii: Kratkij istoricheskij ocherk [Organs and troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia: Short historical essay] / Prepared V.F. Nekrasov [et al.]. - Moscow, 1996. - P. 347.
16. Table of conformity of the Criminal Codes of the RSFSR and the republics of the former USSR. - Appendix to the decree of the Ministry of Social Protection of the Population of the Russian Federation dated 24.03.1993 № 1-27-U “O praktike primeneniya zakonodatelstva pri vyplate denezhnyh kompensacij i predostavlenii pensionnyh lgot licam, neobosnovanno repressirovannym po politicheskim motivam i vposledstvii reabilitirovannym [On the practice of payment of monetary compensation and provision of pension benefits to persons unreasonably repressed for political reasons and subsequently rehabilitated]” (Registered in the Ministry of Justice of the Russian Federation of 14.04.1993, registration number 227) // Bulletin of Normative Acts of the Russian Federation. - 1993. - № 7; Pension legislation. Collected documents. - Moscow: SPARK, 1996. - P. 294-296; Criminal Code of the RSFSR. - Moscow, 1957. - P. 26.
17. Shirvindt, E.G. K sorokaletiyu ispravitelno-trudovoj politiki Sovetskogo gosudarstva [To the fortieth anniversary of the correctional labor policy of the Soviet state] / E.G. Shirvindt. - Moscow: NIO ITK MVD SSSR, 1957. - P. 54.
18. GARF (State Archive of the Russian Federation). - Fonds 4042. - Inventory 2. - File 1. - Sheets 71-75.
19. Kasimova, E. Vyatskij konclager’ [Vyatka concentration camp] / E. Kasimova // Kirov: Panorama,1991. - № 1. - P. 36-38.
20. Chernaya kniga kommunizma. Prestupleniya, terror, repressii [The black book of communism. Crimes, terror, repressions] / Ed. I.Yu. Belyakova. - Moscow: Tri veka istorii [Three centuries of history], 2001. - P. 148.