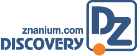Russian Federation
In the Russian intellectual space of the last quarter of the XIX – early XX centuries the North of the European part of the country was increasingly recognized as a special historical and cultural area. Remaining as before in the position of colonized outskirts with a huge but still unclaimed economic potential, now the North has begun to arouse interest of a different kind. In the reign of Alexander III, its political and strategic importance was realized; moreover, with the advent of the first railways in the region, it became much more accessible for travel than before. As a result, in the 1890s a specific northern discourse was being formed in journalism. A key role in this process was played by the travel notes of the Arkhangelsk governor A.P. Engelhardt (1897), in which the nomination "Russian" was used for the first time in relation to the North, although not in an ethnic, but in a political sense. In constructing the image of the region, ideas about its "abandonment", isolation were also used. The North was portrayed as a territory that passed the peak of its development in the XVI–XVII centuries, and then became more and more isolated from the rest of Russia, primarily due to the shift in trade and transport communications. By the 1910s, among the discursive dominants, the notion of the social and cultural identity of the North and the national significance of the monuments of its antiquity, as a heritage that was under the threat of extinction, was also entrenched. A special group of "Northern" narratives were evidence left by artists – in travel notes, short stories, autobiographies. In particular, A.A. Borisov, V.V. Perepletchikov, I.E. Grabar’ and, earlier than the others, V.V. Vereshchagin wrote about the North. An essay of the latter "On the Northern Dvina. On the wooden churches" (1895), considered in the paper, is an example of the author's construction of the image of the region.
V.V. Vereshchagin, Northern Dvina, churches, journey, North, construction, image, journalism
О Верещагинских путешествиях – и как части биографии, и как особой творческой лаборатории – обычно принято рассуждать в парадигме «Восток – Запад», подчеркивая тем самым естественный космополитизм (и экзотизм) художественного мира Василия Васильевича [1]. Северный вектор в этом контексте гораздо менее заметен, поскольку связан прежде всего с интересом к русской истории и культуре, не проявлявшимся у Верещагина отчетливо вплоть до 1880–1890-х гг.
Вполне понятно, почему это запоздалое на первый взгляд обращение Верещагина к Северу объясняли патриотическими соображениями. В популярной работе Л.М. Демина указывается на «горячее желание познакомиться с Русским Севером», возникшее после поездок в Вологду [2, с. 258]. А.К. Лебедев писал просто: «Художника тянули родные места, ему хотелось поближе познакомиться с жизнью родного народа. В начале 1893 года он посетил Вологду, в начале 1894 года несколько месяцев жил в ней, посещая близкие и отдаленные окрестности города, набрасывая этюды с местных типов. Вологодская губерния была родиной художника – этим и объяснял он свой особый интерес к ней» [3, с. 244]. Но такая тяга имела и чисто профессиональный аспект: на Севере «лучше сохранились памятники и обычаи старины», «меньше было внешних, иноземных влияний и наслоений в быту» [там же]. Так, поездка летом 1894 г. по Вычегде и Северной Двине была продиктована «стремлением лучше познакомиться с сохранившимися памятниками древней русской архитектуры» [там же]. Привезенные оттуда предметы долго хранились в подмосковном доме Верещагина, в самой его мастерской. О резных шкафах над лавками, в которых размещалась «коллекция старинных русских вещей (крестов, венцов с икон, кубков, серег и т.п.)», происходившая с Двины, смутно помнил и сын художника [4, с. 44, 45].
Ф.И. Булгаков отмечал, что увлечение Верещагина-коллекционера «русскими древностями» (т.е. прежде всего древностями северными) происходило из его общего умения «найти совершенно новый, никем до него не тронутый материал, темы культурного интереса»; задачей же коллекционирования и в широком смысле «археологии» виделась Василию Васильевичу «значительная и существенная помощь в национальном самосознании» [5, с. 6]. В таком ракурсе вояж на Двину представляется мероприятием почти пионерским. Но «Север» как пространство артистических путешествий, по Булгакову, не ограничивается Двиной и Вологдой: к нему относится и Ярославская губерния [там же, с. 5, 6]. Здесь автор следует историко-географическому обыкновению своего времени. Земли Ярославской губернии по многим признакам определялись как принадлежащие «к обширной лесной области Севера России, где жизнь ее населения сложилась совершенно иначе, чем на Юге России, который весь покрыт степью или полем» [6, с. XIV]. Невольная контаминация «северного» и «русского» также типична, но, принимая последнюю в виде культурного факта, следует поставить вопрос: а как тогда воспринимал Север сам Верещагин?
Между двумя описанными версиями этого восприятия (более простой и очевидной «патриотической», объясняющей все естественной любовью к родине, и «национальной», смещающей фокус из плоскости чувств и эмоций к проблемам изучения и защиты русской старины) нет противоречия. В обоих случаях регион предстает как terra incognita, наконец-то нашедшая своего первооткрывателя или же впервые за долгое время удостоившаяся внимания. Характерно, что в масштабе живописного и графического наследия Верещагина северная тематика занимает очень скромное место, а вот из 12 опубликованных им книг сразу две (шестая часть!) имеют региональную привязку. Это «Иллюстрированные автобиографии нескольких незамечательных русских людей» и «На Северной Двине. По деревянным церквам». Таким образом, рефлексия по поводу Севера находит у Василия Васильевича преимущественно словесное, а не визуальное воплощение, хотя формально обе книги и представляют собой только приложения к каталогам выставок.
Определить жанр для верещагинской прозы тяжело в принципе, поскольку ей слишком часто сопоставлен авторский визуальный ряд, без связи с которым она утрачивает содержательную полноту. Там же, где текст не сопряжен с равноправным себе изображением, он оказывается тесно связан с биографией создателя, если вообще не определен ею. В.А. Кошелев, говоря о новизне подхода художника к литературной работе, относит «Иллюстрированные автобиографии…» к разряду мемуаров – экспериментальных по форме. Очерк «На Северной Двине...» исследователем упомянут, но не разобран и потому прямо не квалифицирован. В порядке экстраполяции к нему можно применить лишь тезис о нетрадиционности писательской техники [7, с. 29, 30]. Г.П. Андреевский в рукописной статье охарактеризовал книгу как продолжение художником «рассказа о своих путешествиях», т.е. авторский травелог [8, л. 6]. Но в первую очередь это произведение примечательно как персональный опыт литературно-публицистического «изобретения» Севера – один из многих подобных в российском интеллектуальном пространстве рубежа XIX–XX вв.
Само речное путешествие от Сольвычегодска до Архангельска заняло у Верещагина чуть более полутора месяцев – с 25 мая по 12 июля 1894 г. Книга, посвященная ему, первый раз вышла в 1895 г., и уже в декабре автор отправил новинку П.М. Третьякову [9, с. 90]. Северные этюды выставлялись тогда в Историческом музее в Москве – и четыре из них («Главный вход в соборную церковь города Сольвычегодска», «Этюд колонны в Пучуге», «Иконостас Белослудской церкви» и «Прославленная икона св. Николая») Павел Михайлович пожелал приобрести для своей галереи, о чем сообщил художнику в феврале 1896 г. [там же, с. 92]. Вскоре Верещагин дал письменное обязательство предоставить этюды покупателю «по окончании моих выставок за границей» [там же, с. 93], однако и летом 1897 г. полотна в галерею не поступили. Третьяков, уплативший за них авансом более 2 тыс. руб., был раздражен проволочками: «Где Ваша выставка, ничего не слыхать о ней, когда она кончится и когда получу я этюды? Очень желается поскорее иметь их», – писал он со сдержанным нетерпением своему незадачливому контрагенту [там же, с. 95]. Тот, удивляясь, отвечал, что картины «лежали летом и только начали теперь путешествие по Европе, путешествие долгое – значит о присылке этюдов теперь не может быть и речи» [там же, с. 96].
Поведение Третьякова в данной ситуации показывает, что его интерес к злополучным этюдам был вполне осознанным. Причина крылась не только в громком имени Верещагина, но и в самой сюжетике, за разработку которой он принялся. Север в живописном отношении был тогда совершенно не обследован и не освоен, так что в двинских зарисовках, столь непохожих на то, что выходило из-под кисти Василия Васильевича прежде, проницательный галерист легко угадал эту многообещавшую новизну. По-видимому, не случайно в 1897 г. Павел Михайлович приобрел сразу целую серию видов Новой Земли, писанных только выпустившимся из Академии художеств А.А. Борисовым [10, с. 6]. Еще раньше Верещагинские работы приоткрыли столичной публике неброскую красоту Севера. В.В. Стасов в статье для каталога посмертной выставки Василия Васильевича очень точно назвал ярославские и северодвинские виды «тихими» [11]. Внимание Верещагина фокусировалось именно на русскости как визуально-семиотической характеристике северного пространства. Теперь же не всемирная знаменитость, а начинающий автор показывал Север в другой – самой пугающей, самой экзотичной ипостаси. Можно сказать, понимание Третьяковым того, что суровые арктические пейзажи станут вехой в отечественном искусстве, что собирать их – перспективно, было в какой-то степени заранее подготовлено. Полотна Борисова продемонстрировали, что у темы, о которой несколько раньше и на другом материале заявил Верещагин, есть еще одна достойная отображения грань.
По совпадению, в июне 1894 г. именно Борисов, «сын … архангельского мужика» [12, с. 322], сопровождал министра финансов С.Ю. Витте и местного губернатора А.П. Энгельгардта в экспедиции на Мурманский берег. Ее маршрут на первом этапе пролегал как раз по Двине. Верещагин узнал об этом 11 июня, когда на ярмарке в Красноборске ему вдруг не продали стерлядь. Оказалось, что ценную рыбу по указанию городского головы приберегли для ожидаемых со дня на день высоких гостей, так что художнику и его семье пришлось довольствоваться менее «статусным» налимом. [Имеется в виду Девятовская ярмарка – проводившаяся в течение четырех дней, начиная с девятой пятницы по Пасхе. См.: 13, с. 45; 14, с. 91, 92].
Более важна для нас, конечно, не комическая одновременность двух путешествий, а их результаты. Вслед за очерком Верещагина «На Северной Двине...» были изданы записки А.П. Энгельгардта с симптоматичным названием «Русский Север» (1897). С 1907 г. одна за другой выходили книги А.А. Борисова. Параллельно, по мере того как нарастала текстуализация широкого общественного интереса к Северу, увеличивалось и разнообразие применявшихся к нему профессиональных оптик.
Травелог Верещагина может быть проанализирован в двух перспективах. Одна из них, соотносимая с травелогом Энгельгардта, касается политико-административного, территориального и экономико-географического конструирования региона. Вторая линия восприятия очерчивает Север как природный, историко- и этнокультурный ландшафт. К ней, в частности, принадлежат разножанровые сочинения, созданные художниками, – А.А. Борисовым, И.Э. Грабарем, В.В. Переплетчиковым и др. В последнем типологическом ряду Верещагинский текст самый ранний и, безусловно, наиболее своеобразный.
Общеизвестно, что Энгельгардт, говоря о «русском Севере», использовал определение «русский» прежде всего в политическом, а уже потом в географическом смысле – маркируя им принадлежность Российской империи земель Архангельской губернии: «... от границ Норвегии до Тобольской губернии вдоль берегов Северного океана и Белого моря», о которых «нельзя не заметить, что экономическая и промышленная жизнь этого обширного края находится в полном застое и как бы в летаргическом сне» [там же, с. 1]. Если Петр Великий оценил значение Севера для России и прилагал все силы к его развитию, то в дальнейшем более быстрое развитие коммуникаций в других частях государства и обращенность их преимущественно на запад привели Архангельск и возглавляемый им обширный регион от процветания к кризису. Север «остался без путей сообщения и совершенно обособленным», «капиталы отшатнулись от Белого моря, торговля и промыслы начали падать, а жители Севера, несмотря на окружающие их богатства, стали испытывать постоянную нужду» [15, с. 5]. Лишь в годы царствования Александра III и Николая II, при их «живом интересе» и «милостивом внимании». [Недаром Витте писал о «влечении к Северу» у Александра III. В этом чувстве, по мнению министра, соединялись этнически окрашенная симпатия к региону, жители которого «представляют собой тип чисто русских людей как по крови своей, так и по истории», а также личностно-биографическая близость императора к Северу, обусловленная его личным участием в борьбе с голодом 1867–1868 гг. в Архангельской губернии. См.: 12, с. 320]. Север снова стал объектом инфраструктурных усилий имперских властей. Началось сооружение сначала Вологодско-Архангельской, а позже – Вятско-Пермской железных дорог – призванных обеспечить «экономическое развитие и возрождение» Севера. По мысли губернатора, он таким образом будет обеспечен хлебом, усилится «эксплуатация» его природных богатств и «колонизация» его территорий [там же, с. 10, 11].
Энгельгардт рассматривает Север как пространство предстоящей геополитической инженерии, которое, хотя и принадлежит к государственной территории России, но совершенно не освоено, находится в состоянии хронического застоя и забвения – т.е. пережило когда-то пик в своем развитии (связываемый с Петровской эпохой). В итоге теперь оно нуждается в «возрождении» и, более того, в «колонизации». Те же тезисы представлены и в англоязычной версии записок Александра Платоновича, которая, в отличие от русского оригинала, является, скорее, памятником экономической публицистики. Здесь Север – это национально-административная конструкция: рамка, с помощью которой организуется подвластность конкретной территории известному политическому центру, создается управляемая им провинция.
В предисловии к книге, рекомендуя автора британским читателям, переводчик Генри Кук назвал Энгельгардта «…человеком с большими средствами и энергичным, придерживающимся передовых по своей сути взглядов, чье пребывание в должности уже отмечено мероприятиями широкого размаха, из которых одни уже осуществились, другие – сейчас осуществляются. Самыми заметными из них являются железная дорога, сооруженная между Архангельском и Москвой, и строящаяся линия от Перми до Котласа…». Упоминая ниже «превосходные сочинения о путешествиях по Северу России» Ф.Дж. Джексона и О.Б. Тревора-Баттье, Кук ставит свой перевод рядом с ними. По его мнению, записки Энгельгардта так же «должны послужить тому, чтобы привлечь внимание к той растущей области России, которая в скором будущем обретет немалое торговое и политическое значение». [Путешествия Джексона по Большеземельской тундре и Тревора-Баттье на остров Колгуев состоялись в 1893–1894 гг., совпав и с плаванием по Двине В.В. Верещагина, и с поездками по Архангельской губернии только получившего туда назначение А.П. Энгельгардта. Характерно, что Тревор-Баттье в книге благодарил губернатора за содействие, хотя упоминал, что ответа на вопрос о природных условиях Колгуева от него, все же, не добился: «Он (Энгельгардт – А.В.) был сама доброта, но признался, что ничего об этом не знает». Разговор этот состоялся осенью 1893 г., когда представления Александра Платоновича о подведомственной ему территории еще были весьма неполными. См: 16, с. XI–XII; 17, XII, XIX].
Железнодорожное строительство не просто способствовало выходу Севера из его прежнего застойного состояния, оно в какой-то степени породило на него «моду». В журналистской версии причиной резко выросшего интереса к региону оказывался, порой, не столько он сам, сколько внимание к нему со стороны иностранцев. «Всемирные путешественники англичане – все на Север хлынули. Швеция и Норвегия кишат ими. Они заглядывают в нашу Финляндию и даже через норвежский город Варде проникают к нам в Архангельск, делая на пароходах прогулки по Ледовитому океану и Белому морю», – писал об этом Н.А. Лейкин [18, с. 1]. В его устах эпитет «дикий» по отношению к Северу уже выглядит ироническим анахронизмом – но лишь отчасти. Несмотря на появление современных транспортных путей, сообщал Лейкин читателю, путешественники по-прежнему предпочитали добираться в Архангельск водой, по Двине. Слухи о Московской-Архангельской железной дороге утверждали, что по ней «под Архангельском поезд три версты в час идет», «Пассажиры выходят из вагонов и пешком около паровоза идут, хвощи и белый олений мох собирают». Неудобства передвижения иногда усиливались до крайности: «Говорят, что по осени шел-шел поезд и остановился. Нельзя дальше идти. Болото… Насыпь размыло, шпалы выперло». Впрочем, у привычного речного пути главным недостатком теперь становилась тоже медленность («Садитесь в Вологде на пароход и сами не знаете, когда приедете в Архангельск»), усугубляемая капризами двинского русла («Пароходы то и дело на мель садятся, на пристанях неизвестно для чего по полдня стоят») [там же, с. 2].
Как бы то ни было, маркером роста общественного интереса к Северу для 1890–1910-х гг. стало увеличение количества и разнообразия его номинаций. В источниках этого времени встречаем уже не только «русский Север» (в том числе с частым написанием первого слова с заглавной буквы), но и более сложные конструкты: «Европейский Русский Север», «Европейский Север», «Северный край Европейской России», «Дальний Север» и «Крайний Север». Последний соотносился с Арктической зоной – прежде всего с островами Северного Ледовитого океана, со всем, что, по А.А. Борисову, простиралось «вверх, за пределы Архангельской губернии» [10, с. 1]. В административно-территориальном смысле Север вплоть до начала 1920-х гг. связывался с границами Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний, иногда – с частичным включением сопредельных территорий Новгородской губернии (Череповецкого и Кирилловского уездов) [19, с. 18]. Определение «русский» со времен Энгельгардта не потеряло свой политико-дифференцирующий, сравнительный смысл (ср.: «И кто не полюбит, любя Россию, русский Север, так, как любят свой, более суровый, Север финляндцы…» [20, с. 12]). Но все больше оно получало этносоциальное наполнение, особенно – в работах историков [21, с. 9–12].
Неизменны оставались и содержательные доминанты дискурса о Севере. Он осмыслялся как «Необъятная и еще мало исследованная окраина Европейской России»; «огромный забытый край», край «первобытного ландшафта», «мертвых земель», «мертвых миллиардов», «мертвого капитала»; край, который, миновав свой расцвет в XVI–XVII вв., следующие два столетия «прозябал в некоторой заброшенности» [20, с. 3, 4, 12, 30; 22, с. 3, 65; 23, с. 3].
Постановка невостребованных северных ресурсов на службу государственным интересам, начавшаяся с проведением к Архангельску железной дороги, высветила еще один аспект темы – о значении Севера как пространства «национального самоопределения». А.В. Журавский заметил в своем очерке, что прошлое Севера для этой цели – «необходимо», но его «останки и реликвии» «быстро и невозвратно исчезают». Это «реликвии этнографические, вещественные, реликвии того кочевого быта, который едва сохранился еще в Печорском крае, но от которого так глубоки, однако, психологические следы в бытовом укладе и русского народа, и русской интеллигенции, главное же – который налагает столь специфический отпечаток на сельскохозяйственный быт современного крестьянства нашего Севера» [20, с. 12, 13].
Мысль о быстрой потере Севером культурной самобытности была близка и Верещагину, хотя выражал он ее по-своему.
1. V.V. Vereschagin i Vostok: v predchuvstvii evraziystva: materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii (g. Cherepovec, 26-28 oktyabrya 2016 g.): sbornik nauchnyh rabot / otvetstvennye redaktory: A.N. Egorov, A.E. Novikov [i dr.]. - Cherepovec: ChGU, 2016. - 333 s.
2. Demin, L.M. S mol'bertom po zemnomu sharu. Mir glazami V.V. Vereschagina / L.M. Demin. - Moskva: Mysl', 1991. - 375 s.
3. Lebedev, A.K. Vasiliy Vereschagin. Zhizn' i tvorchestvo. 1842-1904 / pod obschey redakciey A.V. Solodovnikova / A.K. Lebedev. - Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo «Iskusstvo», 1958. - 427 s.
4. Vereschagin, V.V. Vospominaniya syna hudozhnika / V.V. Vereschagin. - Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1982. - 183 s.
5. Bulgakov, F.I. V.V. Vereschagin i ego proizvedeniya. Illyustrirovannoe izdanie / F.I. Bulgakov. - Sankt-Peterburg: Tipografiya A.S. Suvorina, 1905. - 197 s.
6. Kanchalovskiy, P. Ot Moskvy do Arhangel'ska po Moskovsko-Yaroslavsko-Arhangel'skoy zheleznoy doroge. Opisanie vseh mest, lezhaschih na puti dorogi i v ee okrestnostyah i imeyuschih istoricheskoe ili promyshlennoe znachenie. Vypusk pervyy. Ot Moskvy do Aleksandrova / P. Kanchalovskiy. - Moskva: Tovarischestvo tipografii A.I. Mamontova, 1897. - XVIII, 191 s.
7. Koshelev, V.A. Memuarnaya proza V.V. Vereschagina: metod i masterstvo / V.A. Koshelev // «Nedarom pomnit vsya Rossiya…»: materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii, posvyaschennoy 160-letiyu V.V. Vereschagina i 190-letiyu Borodinskogo srazheniya / Sostavitel' N.A. Britvina. - Cherepovec: [b. i.], 2003. - S. 28-38.
8. Andreevskiy, G.P. O literaturnom tvorchestve hudozhnika V.V. Vereschagina. Avtorizovannaya mashinopis'. 1987, fevral' // Cherepoveckoe muzeynoe ob'edinenie. - F. 38. - B. inv. - 10 l.
9. Perepiska V.V. Vereschagina i P.M. Tret'yakova / podgotovka k pechati i primechaniya N.K. Galkinoy. - Moskva: Iskusstvo, 1963. - 140 s.
10. Borisov, A.A. U samoedov. Ot Pinegi do Karskogo morya. Putevye ocherki hudozhnika Aleksandra Alekseevicha Borisova / A.A. Borisov. - Sankt-Peterburg: Izdanie A.F. Devriena, 1907. - 104 s.
11. Katalog posmertnoy vystavki kartin i etyudov V.V. Vereschagina. - Sankt-Peterburg: Tipografiya I. Usmanova, 1904. - S. 7 // Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arhiv. - F. 489. - Op. 14. - D. 29-V. - L. 70.
12. Vitte, S.Yu. Vospominaniya. Detstvo. Carstvovanie Aleksandra II i Aleksandra III (1849-1894) / S.Yu. Vitte. - Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel'stvo, 1924. - T. III. - 416 s.
13. Vereschagin, V.V. Na Severnoy Dvine. Po derevyannym cerkvam. III prilozhenie k katalogu kartin V.V. Vereschagina / V.V. Vereschagin. - Moskva: Tipolitografiya T-va I. N. Kushnerev i Ko, 1896. - 121 s.
14. Leyman, I.I. Yarmarki na Evropeyskom Severe Rossii v XIX - nachale XX veka / I.I. Leyman; otvetstvennyy redaktor M.A. Macuk.- Syktyvkar: IYaLI Komi NC UrO RAN, 2019. - 232 s.
15. Engel'gardt, A.P. Russkiy Sever. Putevye zapiski / A.P. Engel'gardt. - Sankt-Peterburg: Izdanie A.S. Suvorina, 1897. - 265 s.
16. A Russian Province of the North by Alexander Platonovich Engelhardt, governor of the Province of Archangel. Translated from the Russian by Henry Cooke. - Westminster: Archibald Constable and Company, 1899. - 356 p.
17. Trevor-Battye, A. Ice-bound on Kolguev. A Chapter in the Exploration of Arctic Europe to Which is Added a Record of the Natural History of the Island / A. Trevor-Battye. - Westminster: Archibald Constable and Company, 1895. - XXVIII, 458 p.
18. Leykin, N.A. Po Severu dikomu. Puteshestvie iz Peterburga v Arhangel'sk i obratno. Poezdka na vodopad Kivach / N.A. Leykin. - Izdanie vtoroe. - Sankt-Peterburg: Tovarischestvo «Pechatnya S.N. Yakovleva», 1899. - 243 s.
19. Evdokimov, I.V. Sever v istorii russkogo iskusstva / I.V. Evdokimov. - Vologda: Izdanie Soyuza severnyh kooperativnyh soyuzov, 1921. - 224 s.
20. Zhuravskiy, A.V. Evropeyskiy Russkiy Sever (k voprosu o gryaduschem i proshlom ego byta) / A.V. Zhuravskiy. - Arhangel'sk: Gubernskaya tipografiya, 1911. - 36 s.
21. Shveykovskaya, E.N. Neozhidannyy incident pri zaschite A.V. Kamkinym doktorskoy dissertacii / E.N. Shveykovskaya // Osmyslyaya regional'noe: rossiyskiy region XVI-XXI vekov v fokuse mezhdisciplinarnyh issledovaniy: materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferencii (chteniy pamyati A.V. Kamkina), Vologda, 31 marta - 1 aprelya 2022 g. / pod red. A.V. Vsevolodova. - Cherepovec: Cherepoveckiy gosudarstvennyy universitet, 2022. - S. 8-21.
22. Kizevetter, A.A. Russkiy Sever. Rol' Severnogo kraya Evropeyskoy Rossii v istorii Russkogo gosudarstva. Istoricheskiy ocherk / A.A. Kizevetter. - Vologda: Tipografiya Soyuza severnyh kooperativnyh soyuzov, 1919. - 66 s.
23. Krayniy Sever i ego prosvetiteli. Izdanie Postoyannoy komissii narodnyh chteniy. Izdanie vtoroe. - Sankt-Peterburg: Tipografiya M.I. Akinfieva i I.V. Leont'eva, 1902. - 30 s.