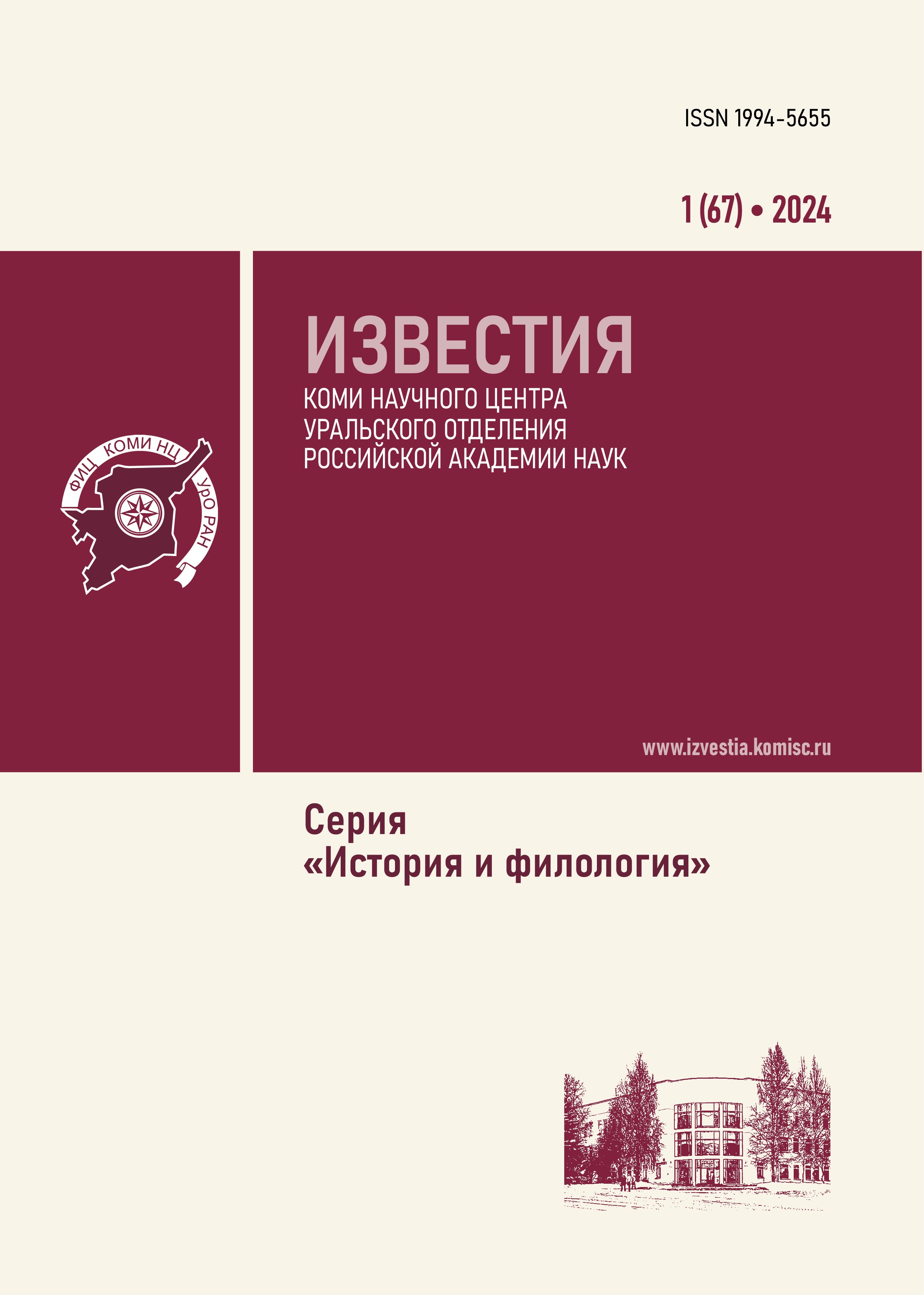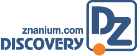The paper, based on the book “On the Northern Dvina. Through wooden churches”, considers the artist V.V. Vereshchagin’s perception of the North. It is shown that it is based on his professional and artistic interest in the monuments of traditional wooden architecture of the XVI-XVII centuries. The artist views the latter as a kind of classic – the pinnacle of Russian art, the personification of its tradition, destroyed or distorted by later stylistic experiments. Moreover, he even places them in a global cultural context, using very tendentious analogies based on his personal experience of acquaintance with the East. On the other hand, Vereshchagin is fully aware of and carefully records the ethnographic features of the Dvina area. Without dividing the North into regions or territories, perceiving it as a single nationally significant space, the artist resorts to subjective-emotional gradation as a means of differentiation: his assessment of the “quality” of a particular monument, settlement, or area is sometimes speculative, litereally depends on the mood. At the same time, the Vereshchagin text reveals key themes and motifs of the northern discourse of the 1890s-1910s, but otherwise articulated. Thus, the thesis that the North passed the peak of its development in the late Middle Ages is revealed through the interpretation of European and other borrowings in Russian architecture. The “remoteness” and “abandonment” of the region are shown as, on the one hand, the problem of “undermanagement”, inattention to the needs of the region, and on the other hand, a consequence of the weak infrastructure development of the northern provinces.
V. V. Vereshchagin, Northern Dvina, churches, travel, the North, space, region, heritage
Определяя цель своего путешествия на Двину – с присущей ему грубоватой ясностью – уже на первой странице книги («Мне давно хотелось поближе ознакомиться с деревянными церквами на севере, из года в год бесцеремонно разрушаемыми» [1, с. 1]) Верещагин явно далек от приписываемого ему историографией гражданственного видения проблемы. Его интерес – сначала интерес профессионала и таково же по природе его отношение к гибели памятников зодчества. «Гневный протест» против «бездеятельного равнодушия властей и так называемого "общества" <…> к разрушению и гибели памятников древней и прекрасной своей слитностью с природой деревянной архитектуры», обнаруженный А. К. Лебедевым и А. В. Солодовниковым, кажется поэтическим преувеличением [2, с. 150–151]. А. Н. Тихомиров, писавший «о глубокой его (Верещагина – А. В.) любви к родине, к народному русскому творчеству», более объективен. Он указывает, что Василий Васильевич не только протестовал против равнодушия к исчезающей северной архитектуре – но и задумывался над тем, как ее спасти. В частности, Верещагин настаивал на включении в программу духовных семинарий курса истории искусства – чтобы в скором будущем священники могли с лучшим знанием дела бороться за сохранение старинных церквей в своих приходах и в меру сил просвещать крестьян [1, с. 20; 3, с. 59].
Отправляясь в плавание по Двине, Верещагин не обременял себя какой-либо строгой программой, ни туристской, ни художественно-эстетической. Он намеревался останавливаться «где Бог на душу положит – где постройки или местность окажутся почему-либо интересными» [1, с. 1]. Позиция любопытствующего наблюдателя, человека, смотрящего со стороны (хотя географически находящегося, конечно, внутри), позволяет ему «изобрести» Север по собственному произволу, не считаясь с мнениями предшественников или современников. Верещагин не имеет сильной эмоциональной привязанности, свойственной, например, Борисову – «северянину по душе и по рождению» [4, с. 1; 5, с. 5]. Он отмечает, что его род «из Вологды», что «наша шекснинская» [6, с. 79; 1, с. 10] стерлядь оказывается вкуснее двинской, но позволить себе сказать «мой Север» он не может, а говорит – «наш Север», подразумевая, что регион является частью России и потому принадлежит всему ее народу.
«Наш Север» – это пространство памяти о Петре Великом, насыщенное разнообразными знаками его пребывания: «...здесь дом, в котором он останавливался или который построил себе; там предмет, которым он заинтересовался, холм, на котором он стоял, или камень, на котором обедал…». Домик Петра в Архангельске – ключевой элемент этого коммеморативного ландшафта, не только перенесен с изначального места на бульвар, но и выбелен так, что выглядит будто «старая кокетка». Позднее Верещагин добавит еще, что домик «окунули в известку» [7, с. 292]. Эти действия, совершенные в бытность архангельским губернатором князя Н. Д. Голицына, Верещагин считает «варварством» и сравнивает с тем, как английские чиновники решили выкрасить известкой старую беломраморную мечеть в крепости Дели, превращенную в склад [1, с. 106–107]. От сравнения двух казусов, «северного» и восточного», художник переходит к обобщению: с памятниками старины у нас в принципе слишком часто обращаются варварски. «Если не примут серьезных мер, скоро не только исчезнет вся деревянная Русь, но и каменные здания, не угодившие гостинодворскому вкусу малообразованных заправил, будут перекромсаны и разделаны, вроде той чудесной церкви древнего монастыря в Ростове Ярославском, в котором настоятель счистил фрески и покрыл их розовым стюком под мрамор – суди его Бог!» [7, с. 292].
Этот вывод – поздний, сделанный уже под влиянием двинского путешествия и в целом поездок по Северу. Видно, что география региона у Верещагина еще включает ярославскую часть, но не она играет в данном случае ведущую роль. Север создает не протяженность и сетка границ, а историко-культурная цельность, лучшим выражением которой в объеме и форме является деревянное зодчество. Это территория «старины», собрание эталонных образцов русского искусства, не подлежащих забвению и тем более уничтожению.
Северные впечатления Верещагина, очевидно, стойкие, но биографически вторичные. Поэтому на них проецируется и в какой-то степени даже определяет их его предшествующий и гораздо более богатый визуальный и социальный опыт – восточный. Сам концепт варварство, когда-то примененный Верещагиным в живописи, безусловно, ориенталистский по звучанию, но здесь обращение к нему лишь подчеркивает, что описываемая с его помощью проблема имеет универсальный характер и разные региональные проявления. Север, таким образом, осмысляется в масштабе не столько отечественной, сколько всей мировой культуры.
Первичность восточных впечатлений делает их основой для чересчур смелых искусствоведческих параллелей. Деревянная колокольня в с. Заблудино напоминает Верещагину турецкий минарет, но не из-за действительного сходства, а из-за убежденности в том, что «восточный стиль имел большое влияние на наш русский». Так и храм Христа Спасителя кажется «прямым воспроизведением» Тадж-Махала и «полным заимствованием» с «восточного образца» [1, с. 77–78]. Резные колонны церкви в Пучуге, напротив, сделаны в «русском» стиле, который образовался из смешения элементов «византийского, итальянского, персидского и чисто мавританского» [там же, с. 80]. Последующие рассуждения о том, как в русской архитектуре XVIII в. взятые из Франции и Италии приемы вытеснили ее собственные, а заимствование превратилось в подражание, завершаются характерным выводом: «Только теперь снова начинают припоминать и разрабатывать свое – давно пора!» [там же, с. 81–82].
Трудно сказать, содержится ли в последних словах симпатия к перемене архитектурной стилистики при Александре III и в целом к той тенденции его царствования, которую Ричард Уортман назвал «воскрешением Московии» [8, с. 322, 334–349]. Но несомненно, что именно церкви Московской эпохи (XVI–XVII вв.) привлекали художника на Севере больше всего. Эти два столетия образуют в его сознании горизонт «старины», древности. Все, что моложе, представлялось Верещагину не столь «интересным». Его тяга именно к эпохе расцвета Севера обусловлена не только натурными наблюдениями, выводами на месте. Она возникла до начала путешествия по Двине. Например, о «большой, старой, очень интересной» церкви в Черевкове Верещагин узнал еще в Москве – тем больше было его огорчение, когда он убедился в том, что этот «памятник старины почти погиб» из-за вычурных поновлений [1, с. 53–54]. Эту и другие потери «живого исторического материала», которым Россия и без того не богата, Верещагин рассматривает как целенаправленное посягательство на национальное искусство [там же, с. 61].
Называя церковь или колокольню «интересной», «интересной выше ожидания», не представляющей «большого интереса» или «мало интересной», Верещагин субъективен и не раскрывает своих критериев, но бесцеремонно навязывает их изучаемому феномену (ср.: «все иконы переписаны до крайности неумелыми мастерами») [там же, с. 13]. Осуждая церковные власти или крестьян за слом ветхих церковных зданий или их переделку в современном духе, художник с той же легкостью может упрекнуть «новую избу богатого мужика» за безвкусицу, если только хозяин позволил себе добавить к ее убранству какие-нибудь «кудрявые завитки, без пользы, без смысла». Ценя северное зодчество только в одном, как ему кажется – лучшем изводе, других Верещагин не понимает и не принимает. Все архитектурное развитие региона после XVII в., за редким исключением, кажется ему упадком, искажением, отходом от традиции.
Верещагин намеренно встает на позицию путешественника-дилетанта, хотя упоминает, что в его взгляде на тот или иной памятник два аспекта – чисто художественный и «археологический» [там же, с. 76]. С этого ракурса рассматривается им и административная карта Севера. Церкви Архангельской губернии для него менее интересны, чем вологодские храмы – поскольку во время их строительства «край был еще совсем дикий <…> и местным мастерством отличаться они не могли» [там же, с. 95]. Схожие различия подмечал почти десятилетием позже И. Э. Грабарь. Для него церкви в районе Сольвычегодска были «не чета тем, что попадались на Сухоне» [9, с. 186].
Однако же Грабарь подходил к осмотру двинских древностей как ученый. Он не просто делал зарисовки или писал красками, а обмерял, фотографировал, делал выписки по истории церквей из клировых ведомостей. Верещагин «набрасывал» приглянувшиеся ему «типы, одежды и постройки» и конкретные их детали в записную книжку или альбом, работал на этюдах, если позволяла погода, но гораздо больше общался – с крестьянами, торговцами, священниками, земскими врачами и лесничими. Север открылся ему как новый огромный мир, известный в общих чертах, но незнакомый и даже экзотичный в подробностях. Дефицит собственного, первоначального знания и делает его сочинение столь характерным в рамках северного дискурса, основные особенности которого он воспроизводит где-то осознанно, а где-то – интуитивно. Он изучает Подвинье широко, иногда с наивным энтузиазмом чужака-первопроходца, невольно акцентируя его отличия от прочей России (ср.: «…в этих местах большая часть общеупотребительных слов совершенно разнится от русских, средней полосы Империи» [1, с. 56]). Это для него внешний край, откуда можно двигаться только «внутрь России» [там же, с. 85].
Верещагин на Двине в первую очередь аналитик и этнограф-бытописатель (это обстоятельство отметил еще Г. П. Андреевский [10, л. 6]). Он разбирает и оценивает то, что видит, не увлекаясь пейзажем в слове, а оставляя его бумаге и холсту. Чаще всего, он избегает лишних эмоций, чем отличается от прочих писавших о Двине и Севере вообще художников. Путевые очерки Борисова – прямое отражение его живописи и методичное, привязанное к карте повторение реального маршрута. У Переплетчикова «желтая отмель» может «куриться» посреди «темно-лиловой Двины» [11, с. 21]. Грабаря «очаровывает» Сольвычегодск и «соблазняют пути диких уток, покрывавшие черным ковром соединенное с Вычегдой озеро». Он «потрясен красотой и совершенством архитектурных форм шатровой церкви в Паниловском» [9, с. 185, 186]. Верещагин изредка обращает внимание на цвет двинской воды, скорость и силу ветра, мешающего плаванию барки, и гораздо чаще – на то, что «По всему широкому устью натыканы колья для ловли рыбы» [1, с. 42], отчего из-за песчаных наносов река мелеет. Ему интересно, чем ловят рыбу, сколько она стоит и как лучше сторговать ее на ярмарке; много ли получает земский врач, сплавщик леса, сколько раскольников в приходе и т. п. Диалоги с многочисленными собеседниками и их словесные портреты занимают в его книге гораздо больше места, чем картины природы. Возникающий из них образ Севера неизбежно полифоничен: его богатство не в яркости изображения, а в насыщенности передаваемой в нем социальной жизни. Максимум лиризма, допускаемого Василием Васильевичем – любование «чудесным закатом солнца» [там же, с. 63]. Впрочем, здесь художник оказывается прагматиком: он констатирует, а не только восхищается, равно передает свое ощущение, и качество увиденного. «Чудесной» для него может быть и деревянная резная скамеечка, найденная у церковной ограды [там же, с. 63].
Избирателен Верещагин в использовании топографических деталей. Высота и крутизна берега, характер рельефа, направление речного русла, качество дорог и передвижения по ним описываются порой с неожиданными аналогиями: «Местность оправдывает свое название "Пермогорье", т. е. продолжение Пермских гор – с большими домами, крытыми широкими крышами, она напоминает Швейцарию, в ее невысоких частях. Дорога все время идет с горы на гору, и через какие мостовые сооружения приходится переезжать – того не видевший и не поверит» [там же, с. 50]. Любопытны его емкие, точные замечания о природосообразности расселенческой структуры двинских волостей. Например, Черевковская «вытянулась полукругом на возвышенностях, вдоль левого берега реки, имея село в середине» [там же, с. 53].
Природное и социальное на Севере часто показываются у Верещагина в своеобразной синхронии. Благодаря этому, он видит Север глубже многих предшественников и невольных последователей. Наблюдая и отмечая то же, что и они, он делает это и образнее, и шире их. «Ужасная лесная дорога» открывает ему «что-то до того первобытное, запущенное, заброшенное, что вряд ли что-либо подобное есть в каком-нибудь другом царстве» [там же, с. 69]. Подобное художник находит в Сольвычегодске. Он замечает, что в XVI в., при Строгановых, «это был город», теперь же он представляет собой «такой маленький городок, что в нем почти ничего нельзя достать» [там же, с. 2–3]. А вот заштатный Красноборск, с его точки зрения, «имеет будущность», поскольку лежит близко к Великому Устюгу и Сольвычегодску, ведет бойкую торговлю и активно «обстраивается» [там же, с. 44]. Вокруг города находятся «превосходные» пастбища и даже воздух его был в день отплытия «чудный, мягкий», а «краски спокойной воды, отражавшей небо и облака, превосходили всякое описание» [там же, с. 46].
Целостность свойственна и Верещагинской критике, в которой, на поверку, оказывается гораздо больше анализа, нежели пафоса. То, что двадцати человек врачебного персонала недопустимо мало на 300–400 верст, является причиной бедственного медицинского положения северной деревни в той же степени, что и бедность ее самой [1, с. 56–60]. Отсталость северного лесного хозяйства обусловлена не одной его примитивной техникой, но и элементарной нехваткой грамотных лесничих, сторожей, объездчиков. Она является следствием банального «недоуправления» – когда «единственное начальство» (урядник) «занимается охотою, рыболовством, хлебопашеством, но не службою» [там же, с. 69–70].
Объективность Верещагина имеет, конечно, свои пределы. Тональность изложения, весь его взгляд на Север сильно зависят от настроения. Нужно учитывать, что в книге сырой, исходный материал путевого дневника монтируется с позднейшими литературно доработанными вставками, превращающими травелог в развернутый комментарий к этюдам и рисункам. Сочетание синхронной – дневниковой – оптики с ретроспективной в тексте, усложняющее жанровую идентификацию, обозначается нерегулярным указанием дат. Так, между 4 и 12 июля совсем нет датированных частей – только краткие хронологические ремарки («вечером», «на утро» и т. п.), либо, реже, данные развернуто: «С 5 июня мы стояли два дня в Березняках» [там же, с. 99; здесь в опубликованном тексте опечатка, верно: 5 июля]. Монтажность композиции показывается даже типографскими средствами, причем описание путешествия по Двине вдвойне последовательно отграничивается от рассказа о пребывании в Архангельске и поездке в Соловецкий монастырь: сначала заключающей фразой («Так кончилось наше плавание на барке-яхте…»), а затем отбивкой [там же, с. 105].
Последние страницы очерка полностью литературны: в них отсутствуют даты и четко оформленное завершение. Незаконченностью этого фрагмента подчеркивается и усиливается неприязнь Верещагина к Соловкам, в которой можно найти даже гигиенический оттенок. Монастырь для художника – «столько же молитвенная община, сколько и торговая компания» [там же, с. 118], где все за трапезой утираются одной грязной тряпкой [там же, с. 117]; иконописная школа при обители кажется «примитивной», а соловецкие церкви все «перепорчены» переделками [там же, с. 114, 116]. Если плавание на барке вышло «временами беспокойным, но в общем – приятным и довольно поучительным», то о беломорском вояже ничего хорошего Василий Васильевич сказать не хочет.
Можно сказать, что авторский метод «сборки» Севера в качестве дифференцирующего признака использует как раз субъективно-эмоциональную градацию, действие которой распространяется даже на природные ландшафты. Однако в историческом и экономическом отношениях Север для него един. Он не расчленяется на отдельные зоны или области: административное или географическое деление не является в понимании Верещагина определяющим критерием конструирования региона, хотя и учитывается им как своего рода симптом, показатель хозяйственно-культурных различий. Верещагин еще не прибегает к этнографическому маркированию: Север воспринимается им как пространство наследия – старины, памятники которой имеют общенациональное значение. В этом убеждении Верещагин оказывается гораздо ближе к писавшим о Севере публицистам, чем к своим собратьям художникам.
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
1. Vereschagin, V. V. Na Severnoy Dvine. Po derevyannym cerkvam. III prilozhenie k katalogu kartin V. V. Vereschagina / V. V. Vereschagin. – Moskva : Tipolitografiya Tovarischestva I. N. Kushnerev i Ko, 1896. – 121 s.
2. Lebedev, A. K. V. V. Vereschagin / A. K. Lebedev, A. V. Solodovnikov. – Moskva : Iskusstvo, 1988. – 205 s.
3. Tihomirov, A. N. Vereschagin / A. N. Tihomirov. – Moskva : Iskusstvo, 1942. – 100 s.
4. Borisov, A. A. U samoedov. Ot Pinegi do Karskogo morya. Putevye ocherki hudozhnika Aleksandra Alekseevicha Borisova / A. A. Borisov. – Sankt-Peterburg : Izdanie A. F. Devriena, 1907. – 104 s.
5. Borisov, A. A. V strane holoda i smerti. Ekspediciya hudozhnika A. A. Borisova / A. A. Borisov. – Sankt-Peterburg : Tipografiya I. V. Leont'eva, 1909. – 68 s.
6. Ukazatel' vystavki kartin V. V. Vereschagina s ob'yasnitel'nym tekstom. 1895. Moskva, Istoricheskiy muzey. – Moskva : Tipolitografiya Tovarischestva I. N. Kushnerev i Ko, 1896. – 96 s.
7. Vereschagin, V. V. Iz zapisnoy knizhki / V. V. Vereschagin // Vereschagin V. V. Povesti, ocherki, vospominaniya / sostavlenie, vstupitel'naya stat'ya i primechaniya V. A. Kosheleva i A. V. Chernova. – Moskva : Sovetskaya Rossiya, 1990. – 352 s.
8. Uortman, R. S. Scenarii vlasti: mify i ceremonii russkoy monarhii. V 2-h t. T. 2. Ot Aleksandra II do otrecheniya Nikolaya II / R. S. Uortman; per. s angl. I. A. Pil'schikova. – Moskva : OGI, 2004. – 796 s.
9. Grabar', I. E. Moya zhizn' (avtomonografiya) / I. E. Grabar'. – Moskva – Leningrad : Iskusstvo, 1937. – 374 s.
10. Andreevskiy, G. P. O literaturnom tvorchestve hudozhnika V. V. Vereschagina. Avtorizovannaya mashinopis'. 1987, fevral' // Cherepoveckoe muzeynoe ob'edinenie. F. 38. B. inv. 10 l.
11. Perepletchikov, V. V. Sever. Ocherki russkoy deystvitel'nosti / V. V. Perepletchikov. – Moskva : Tovarischestvo «Knigoizdatel'stvo pisateley v Moskve», 1917. – 180 s.